Пузырь ИИ: уроки краха доткомов

Последнее падение стоимости крупнейших технологических компаний вызывает тревожное дежавю. Снова на рынке наблюдается рост стоимости компаний, основанных на новых технологиях, который сталкивается с экономической реальностью, как это было во время краха доткомов 25 лет назад.
На фоне падения рынков и обеспокоенности инвесторов по поводу завышенных оценок компаний, занимающихся искусственным интеллектом (ИИ), вновь возникает вопрос: может ли технология действительно игнорировать базовые экономические законы? Этот вопрос поднимался еще в августе 2000 года, когда интернет-акции стремительно падали, а сотни доткомов терпели крах. Тогда многие интернет-компании были признаны «голыми», поскольку их бизнес-модели были прозрачны, но не имели реальных путей к прибыли.
Новая реальность ИИ
Сегодняшний бум ИИ во многом повторяет ту же логику. Если в 2000 году успех измерялся «глазами» и «кликами», то сегодня это «токены» и «запросы к моделям». Язык изменился, но вера в то, что масштаб автоматически приведет к прибыли, осталась прежней. Подобно тому, как интернет обещал устранить посредников, ИИ обещает автоматизировать когнитивный труд. Оба эти обещания побуждают инвесторов игнорировать убытки в погоне за долгосрочным доминированием.
Компании, подобные eToys, вкладывали огромные средства в маркетинг для привлечения клиентов. Сегодня разработчики ИИ тратят миллиарды на вычислительные мощности, данные и энергию, но при этом остаются убыточными. Многотриллионная капитализация Nvidia, постоянные убытки OpenAI при растущих доходах и огромные объемы венчурного финансирования стартапов в области ИИ – всё это напоминает пузырь 1999 года. Тогда, как и сейчас, расходы ошибочно принимались за инвестиции.
Чему нас научил крах доткомов
В 2000 году было предложено, что интернет-компании создавали рыночные активы, такие как бренд, клиентские отношения и данные, которые могли бы принести реальную ценность только при наличии лояльных и прибыльных клиентов. Проблема заключалась в том, что инвесторы принимали расходы за доказательство роста, а маркетинг – за самостоятельную бизнес-модель. Экономика ИИ повторяет эту схему. Наборы данных, архитектуры моделей и экосистемы пользователей рассматриваются как активы, даже если они еще не принесли положительной отдачи. Их ценность основана на вере, что монетизация в конечном итоге догонит затраты. Логика осталась прежней, изменилась только история.
Пузырь доткомов подпитывался нестабильными стартапами, венчурным капиталом и общественным энтузиазмом. Сегодняшний бум ИИ возглавляют крупные игроки, такие как Microsoft, Google, Amazon и Nvidia, которые могут выдерживать годы убытков в погоне за доминированием. Это снижает системный риск, но концентрирует рыночную власть. Распределение средств также изменилось: интернет-компании тратили деньги на рекламу, а компании ИИ – на вычислительные мощности и данные. Расходы переместились из рекламных агентств в дата-центры, но вопрос остается: создают ли они реальную ценность или лишь иллюзию прогресса?
ИИ проникает глубже, чем интернет. Если интернет изменил то, как мы общаемся и совершаем покупки, то ИИ формирует наше мышление, обучение и принятие решений. В случае краха это может подорвать доверие к технологии и замедлить инновации на годы. Относительно низкие процентные ставки и обилие капитала также способствовали текущей волне технологических инвестиций. Подобно буму конца 1990-х, когда благоприятная денежно-кредитная политика поддерживала рост оценок технологических компаний, нынешний цикл демонстрирует, как макрофинансовый фон может усилить технологический оптимизм.
Возвращение нематериальной мании
Несмотря на эти различия, паттерн оценки знаком. Инвесторы снова оценивают потенциал выше производительности. В 2000 году аналитики оправдывали оценки, подсчитывая потенциальных пользователей, которых компания могла бы когда-либо монетизировать. В 2025 году они моделируют «инференционный спрос» и «преимущество в данных». Оба подхода основаны на догадках о воображаемом будущем. Повествование стало капиталом, когда рынки вознаграждают уверенность вместо доказательств. Опасность заключается не в технологическом сбое, а в экономическом искажении, когда рассказы опережают платежеспособность. Даже прибыльные компании могут оказаться под ударом.
В 2000 году лидеры, такие как Yahoo! и eBay, потеряли большую часть своей рыночной стоимости, когда пузырь лопнул, несмотря на их долгосрочное выживание. То же самое может произойти и с сегодняшними гигантами ИИ. Два урока остаются актуальными. Во-первых, масштабируемость без прибыльности не является бизнес-моделью. Экспоненциальный рост может углубить убытки, а не сократить их. Каждый дополнительный запрос к ИИ влечет за собой реальные вычислительные затраты, поэтому рост имеет значение только тогда, когда он ведет к устойчивой марже. Во-вторых, нематериальные активы должны создавать измеримую ценность: маркетинг, данные и алгоритмы являются активами только тогда, когда они приносят стабильный денежный поток или явные социальные выгоды.
Для политиков вывод очевиден: финансировать проекты ИИ, которые приносят ощутимую пользу для производительности или общества, а не просто подпитывают ажиотаж. Хотя ИИ трансформирует нашу работу и мышление, он не может отменить связь между затратами, ценностью и потребностями клиентов. Долгосрочная ценность проистекает из предоставления реальных преимуществ людям. Вопрос сейчас в том, оправдают ли реальные приросты производительности ИИ сегодняшние оценки, как это в конечном итоге произошло с интернетом после болезненной коррекции.

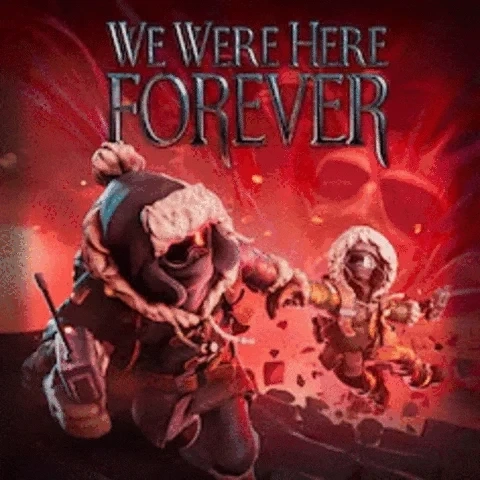






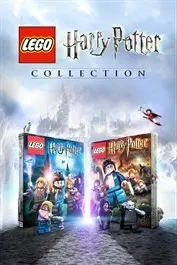




Комментарии
Комментариев пока нет.